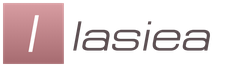«Меня будущее не страшит». Пять трагических судеб жен декабристов
О женах декабристов.
Автор пишет: "Сослан в Сибирь на каторгу и поселение 121 декабрист. 121 декабрист – запомним эту цифру! Сколько жен последовало за своими мужьями? Гессен, исследовавший и описавший подвиг декабристов, приводит 12 фамилий жен, последовавших в Сибирь... Итак, подвожу итоги вселенского женского подвига. За 121 ссыльным декабристом последовало только 12 (двенадцать) женщин!... При этом, напомню, по законам Российской империи жена была ОБЯЗАНА следовать за своим мужем. В частности там было указано, что муж определяет место жительства семьи. Вот так то!"
Прочитала и захотелось поподробнее узнать, почему же другие жены не последовали за своими мужьями. Ведь и правда: 121 декабрист и всего 12 женщин...
И начала я копаться в статьях, документах, книгах, воспоминаниях... И до чего же я докопалась...
Всего в Сибирь уехало 19 женщин, из них 12 жен (по другим источникам - 11 жен), остальные матери и сестры. О матерях и сестрах почему-то умалчивают...
Из 121 осужденного Верховным уголовным судом декабриста женатых было только 22 человека . В российском дворянском обществе того времени мужчины женились, как правило, где-то в возрасте плюс-минус 30 лет, а подавляющее большинство заговорщиков на момент восстаний (на Сенатской площади и в Черниговском полку) еще не достигли этих лет, и поэтому просто не успели завести свою семью...
Получается, из 22 жен не поехали за мужьями 10. Почему?
Самым сложным испытанием для большинства женщин была необходимость расставания с детьми. С ними выезд в Сибирь власти категорически не разрешали. Александра Давыдова оставила шестерых детей. Мария Волконская, уезжая в Сибирь к мужу, вынуждена была оставить на попечение родных грудного сына Николая (он скончался в два года). Марии Юшневской пришлось четыре года ждать решения. Все дело в том, что она хотела взять с собой в Сибирь дочь от первого брака. Но чиновники не пошли навстречу и Юшневская отправилась за мужем одна, оставив дочь. Н.Д. Фонвизина - единственная дочь престарелых родителей (Апухтиных), отправляясь в Сибирь, оставила на их попечение двух внуков Митю и Мишу 2-х и 4-х лет... На самом деле таких детей декабристов было гораздо больше. До отъезда в Сибирь детей не было только у Е.И. Трубецкой, Е.П. Нарышкиной и К.П. Ивашовой...
А вот жена Артамона Муравьева Вера Алексеевна с сыновьями Львом (умер в 1831 г.), Никитой (умер в 1832 г.) и Александром намеревалась приехать в Сибирь к осужденному мужу, но все же из-за детей этого сделать не смогла. Перед самым отъездом Муравьев писал ей: "Все существование мое в тебе и детях заключается - любовь, почтение и благодарность мои к тебе за твои чувства ко мне, невзирая ни на что, не могут быть мною описаны… Я не впаду в отчаяние; лишь бы ты берегла бы себя". Супругам не суждено было встретиться. Надолго пережив мужа, она сосредоточила все заботы на единственном оставшемся в живых сыне...
Иван Дмитриевич Якушкин запретил жене Анастасии Васильевне покидать детей и ехать с ним в Сибирь, полагая, что только мать, при всей ее молодости, может дать детям должное воспитание. Вышедшая замуж по страстной любви в 16 лет, она писала мужу в Сибирь: "…ты можешь быть счастлив без меня, зная, что я нахожусь с нашими детьми, а я, даже находясь с ними, не могу быть счастлива…". Кстати, теща Якушкина не раз хлопотала о дозволении дочери и внукам отправиться в Сибирь, но получала решительные отказы. Сама жена декабриста тоже предпринимала несколько таких попыток. В последний раз, когда сыновья уже подросли, она просила принять ее детей в Пажеский корпус по достижении ими надлежащего возраста, а ей позволить ехать к мужу, на что получила отказ. Супруги больше не встретились, но их сыновья Вячеслав и Евгений получили хорошее воспитание и образование. Их мать умерла на 11 лет раньше отца. Узнав о смерти жены, Якушкин в память о ней открыл первую в Сибири школу для девочек...
Вот что писал о своей жене, не поехавшей с ним в ссылку, декабрист Федор Шаховской: "Жену свою оставил я в селе Ореховце в тяжелой беременности с мучительными припадками - с нею сын наш Дмитрий шести лет. Если бог укрепил силы и сохранил дни ее, то в половине сего месяца должна разрешиться от бремени. Но если ужасное несчастье постигнет меня, и последняя отрада исчезнет в душе моей с ее жизнью, то одно и последнее желание мое будет знать, что сын мой останется на руках ее семейства, вроде отца ее... уведомил ее об нашей участи и просил, чтоб она, как можно скорее, распорядилась взять имение мое в опеку, по малолетству нашего сына, к которому оно переходит, с тем, чтобы она была опекуншей, а отец ее, примерной и строгой честности и горячей любви своей к внуку, не откажется быть его попечителем. Сие положение, горестное и сомнительное, усиливается расстоянием 6000 верст, отделяющих меня от родины и осиротелого моего семейства". Отправленный в ссылку Федор Шаховской сошел с ума. Его жена Наталья Дмитриевна добилась его перевода в отдаленное имение. Император в конце концов разрешил перевезти больного в Суздаль, в Спасо-Евфимиев монастырь, а жене поселиться неподалеку. Здесь Наталья Дмитриевна и схоронила мужа через два месяца после приезда. Умерла она в глубокой старости, восьмидесяти девяти лет, в одиночестве, пережив намного не только мужа, но и сына...
Жена декабриста Александра Бригена София Михайловна Бриген еще в 1827 году просила разрешение приехать с детьми на место поселения мужа. Однако ей было отказано в переезде в Сибирь вместе с детьми. С. М. Бриген была вынуждена отказаться от переезда к мужу, так как оставить четверых детей у родных у нее возможности не было... В ожидании семьи Бриген построил в Пелыме деревянный трехкомнатный дом, в котором прожил до 1836 года... со своей новой гражданской женой-крестьянкой Томниковой Александрой Тихоновной, нарожав новых пятерых детей... Пишут, в 50-е годы гражданская жена заболела психическим расстройством... Младшего сына от этого брака Николая Бриген увез с собою из Сибири, а двух дочек поместил в Туринский монастырь. После возвращения жил у младшей дочери от первого брака в Петергофе с февраля 1858 года... После смерти Бригена Николая взял на воспитание Н. И. Тургенев...
Жена декабриста Владимира Штейнгеля также осталась с детьми, ждала мужа из ссылки и дождалась его. Сам женатый барон Штейнгель Владимир Иванович в Ишиме жил в гражданском браке с вдовой местного чиновника. Имели двоих детей: Марию и Андрея. Дети носили фамилию Петровы, впоследствии им была присвоена фамилия Бароновы. После амнистии Штейнгель уехал к детям, жене и внукам в Санкт-Петербург. Внебрачных детей и гражданскую жену он оставил в Сибири... Жена Штейнгеля, не поехавшая за мужем в Сибирь, дождалась его - глубокого старика - после тридцати лет разлуки...
О жене декабриста Ивана Юрьевича Поливанова Анне Ивановне не известно практически ничего, кроме того обстоятельства, что весь период ареста и следствия по делу декабристов пришелся на ее первую беременность, которую она по этой причине переживала очень тяжело. Единственный сын декабриста, Николай, родился в июле 1826 года, вскоре после вынесения приговора мужу, и лишился отца в возрасте двух месяцев отроду. "Содержащийся в здешней крепости... лишенный чинов и дворянского достоинства Поливанов заболел сильными нервическими судорожными припадками при значительном расслаблении всего корпуса", отправлен в Военно-сухопутный госпиталь – 2.09.1826, где и умер. Похоронен на Смоленском кладбище. Никакие подробности дальнейшей судьбы вдовы декабриста и его сына историкам не известны...
Только три жены декабристов воспользовались царским указом, освобождавшим их от брачных уз. Так, сестры Бороздины (двоюродные М. Волконской) Екатерина и Мария, жены В.Н. Лихарева и И.В. Поджио, а также жена П.И. Фаленберга вторично вышли замуж.
Что касается историй двух дочерей проживавшего на Украине богатого и знатного сенатора Бороздина Марии и Екатерины, то истории эти довольно непростые.
Старшая дочь - Мария - вышла замуж против воли отца за члена Южного общества Иосифа Поджио. Причин для недовольства у папеньки было несколько - Поджио был католик (межконфессиональные браки в те дни были в принципе допустимы, но не особенно приняты), вдовец с двумя детьми на руках, а кроме того - член тайного общества. Сенатор Бороздин беспокоился о будущем дочери. Иосифа Поджио арестовали на глазах у беременной жены и отправили на следствие в Петербург. Мария рвалась к мужу, но… отец опять проявил заботу о дочери. Осужденного по четвертому разряду Поджио должны были бы отправить, как и остальных осужденных, в Сибирь - и Мария собиралась последовать за мужем. Однако стараниями и связями папаши Бороздина, осужденного на каторгу не отправили, а заточили в одиночку в Шлиссельбургской крепости, где он и провел около 8 лет. Мария ничего не знала о судьбе мужа, обивала пороги правительственных учреждений - но ответом ей было молчание. Через восемь лет молодая женщина иссякла, отступилась. И, воспользовавшись дарованным правом на развод с государственным преступником, вышла замуж второй раз - за князя Гагарина. Вскорости после этого Поджио - рано поседевшего и постаревшего - выпустили из крепости и отправили, минуя каторжные работы, прямиком на поселение в сибирскую глушь... Существует и несколько другая версия - якобы отец Бороздиной сообщил ей, что муж находится в крепости и тяжело болен, в том числе скорбутом (цингой), и что его незамедлительно переместят на поселение в Сибирь, в более щадящие условия для здоровья, если она забудет его и вторично выйдет замуж, в противном же случае - ему суждено сгнить в крепости. Но как было на самом деле - покрыто тайной...
Еще более запутанная история вышла с Катенькой Бороздиной. Катенька безумно любила молодого и пылкого декабриста Михаила Бестужева. Молодые люди любили друг друга - но в данном случае браку воспротивились родители Бестужева - ссылаясь на молодость сына, его малый чин и затрудненность карьеры для бывших семеновских офицеров после восстания Семеновского полка. Длительные уговоры и переписка, попытка вмешательства друга Бестужева - декабриста Сергея Муравьева - ни к чему не привели, родители не дали благословения на брак. Влюбленные расстались... Бестужев с головой окунулся в подготовку восстания на юге, а предмет его любви Катенька Бороздина через полтора года вышла замуж… тоже за декабриста, молодого поручика Владимира Лихарева... Когда Лихарев был также арестован, Катенька была беременной. Срок Лихарев получил небольшой. Катерина Лихарева за мужем в Сибирь не последовала, а, воспользовавшись правом на развод, через несколько лет вышла замуж второй раз за Льва Шостака. Лихарев недолго был на каторжных работах - уже в 1828 году он вышел на поселение. Узнав о повторном замужестве своей жены, он, по свидетельству очевидцев, словно разума лишился, не находил себе места. Вскорости он попросился рядовым на Кавказ - и в битве сложил свою голову. Говорят, что в кармане его нашли портрет красивой женщины - Екатерины Лихаревой, урожденной Бороздиной, во втором замужестве - Шостак...
Ну и последняя оставшаяся жена декабриста-не декабристка. Жена П.И. Фаленберга. В 1825 году он женился на Евдокии Васильевне Раевской. Арестован был 5 января 1826 года. Вроде как и года они не прожили. Пишут , что ради нее ее супруг во время следствия дал "откровенные показания", возведя напраслину на себя и на друзей, - а она благополучно вышла замуж за другого… В первые годы ссылки Фаленберга, находившегося в полном одиночестве, одолела тяжелая депрессия, усугубленная известием о вторичном замужестве оставленной в России жены. Такое душевное состояние сохранялось вплоть до 1840 г., когда Фаленберг женился на дочери урядника А.Ф. Соколовой, простой, неграмотной, но доброй сибирячке. "Жена его была преданная и нежная подруга, и вполне усладила его изгнанническую жизнь. Она скоро усвоила себе все образованные приемы и могла стать в уровень со своим мужем", - писал в своих воспоминаниях А.П. Беляев. Женитьба, а затем появление детей вернули декабристу бодрость и энергию. Жили они, правда, очень бедно. Жена происходила из бедной семьи, а сам Фаленберг, не получая никаких денег от родных, по словам декабриста А.П. Юшневского, женитьбой своей "сочетал две бедности". Но несмотря на все проблемы, они вместе были всю жизнь. У них родились сын и дочь. Сын служил в конной артиллерии, потом преподавал в одной из московских военных гимназий. Дочь Фаленберга, Инна, была замужем в Харькове. Она умерла в возрасте 32 лет. Ее смерть так подействовала на находившегося уже в очень преклонных годах отца, что он тотчас же после получения о том известия скончался. Похоронили его в Харькове. После смерти Фаленберга его вдова переехала в Москву к сыну... Пусть первая жена и предала (да и можно ли ее считать женой, если и года то вместе не прожили?), но зато вторая была рядом всю жизнь, несмотря на бедность, несмотря на то, что муж считался государственным преступником. И ради мужа она выучилась и манерам, и письму, и чтению...
Вот такие истории о несостоявшихся декабристках... Задумалась... Многие ли жены декабристов, не поехавшие за мужьями в Сибирь, достойны того осуждения, которое было на них выплеснуто на "Маскулисте"?
В сиянии, в радостном покое,
У трона вечного Творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.
(Эпитафия младенцу. А.С.Пушкин. 1829 г.)
Для преподавателей как высшей, так и средней школы очевидно, что
содержание исторического образования должно объективно отражать
процессы, происходившие в обществе. Но на практике вопрос о
критериях объективности не решается однозначно. Их выявление и
признание в качестве оценочного фактора связано с позицией автора
учебника или педагога, опирающегося в преподавании на ту концепцию
исторического развития, приоритетный выбор которой обусловлен
субъективной ценностной мировоззренческой ориентацией. Современный
этап развития образования, в отличие от недавнего прошлого,
допускает вариативность подходов к оценке тех или иных исторических
явлений и событий. При этом учитель неизбежно сталкивается с
проблемой ответственности, ведь особенность его профессии в том,
что, в процессе обучения он вводит детей в мир, который им
открывает и стремиться сделать образовательный процесс личностно
значимым для ребенка. Это имеет особое значение для уроков, на
которых происходит раскрытие внутренней мотивации поступков
исторических героев, их нравственных качеств, т.к. их поведенческий
стереотип может стать для детей жизненным примером, помочь им в
собственном нравственном выборе, стать для них ценностным.
Но насколько устоявшиеся оценки нравственного поведения
исторических героев способствуют формированию сознательного
жизненного выбора? Видимо, следует признать, что шаблонность
мышления, основанная на безальтернативном подходе к анализу и
оценке исторических фактов, несмотря на заявленный «плюрализм
мнений», продолжает быть господствующей как на страницах учебников,
так и в преподавательской практике.
Для примера рассмотрим лишь один устоявшийся стереотип – оценку
поступка жен декабристов, поехавших за своими избранниками в
Сибирь, как высоконравственного и достойного подражания. Столь
однозначная оценка не раскрывает всю полноту нравственного выбора
«добровольных изгнанниц»: в Европейской России остались их дети,
которых запрещено было брать с собой. В качестве проблемных
поставим два вопроса:
- согласны ли Вы с тем, что поступок жен и невест декабристов,
поехавших в Сибирь, можно считать подвигом?
- одобряете ли Вы решение декабристок оставить детей ради
мужей?
Как известно, до событий декабря 1825 г. женаты были 23 декабриста.
В 1826 г. две декабристки стали вдовами: 13 июля был повешен К.Ф.
Рылеев; 5 сентября умер И.Ю. Поливанов. Младший сын Рылеева -
Александр - умер в младенчестве, старшей дочери - Насте – в 1825 г.
было около пяти лет. Его вдова – Наталья Михайловна, давно
похоронив родителей, осталась с маленькой дочкой без средств к
существованию. Лишь казенная материальная субсидия в 2000 руб.,
выданная еще в период следствия над Рылеевым, поддержала семью.
Всего в Сибирь уехало 19 женщин, из них 11 жен (остальные матери и
сестры). Зачастую их по-прежнему именуют героическими женщинами и
«идеальными женами» (видимо, не считая такими тех, кто остался).
Это Прасковья Егоровна Анненкова (Полина Гебль), Мария Николаевна
Волконская, Александра Ивановна Давыдова, Александра Васильевна
Ентальцева, Камилла Петровна Ивашева (К.Ле-Дантю), Александра
Григорьевна Муравьева, Елизавета Петровна Нарышкина, Анна
Васильевна Розен, Екатерина Ивановна Трубецкая, Наталья Дмитриевна
Фонвизина, Мария Казимировна Юшневская. Они были разными по
социальному положению и материальной обеспеченности, характеру и
уровню образования, происхождению и возрасту. Самая знаменитая из
них - М.Н. Волконская - на момент отъезда лишь перешагнула
20-летний рубеж, почти в два раза старше ее были М. Юшневская и А.
Ентальцева. Сибирскую тюрьму, каторгу, ссылку и поселение пережили
8 из них: А. Муравьева умерла в 1832 г., К. Ивашева – в 1839 г., Е.
Трубецкая – в 1854 г. После указа об амнистии декабристов (28
августа 1856 г.) с мужьями вернулись М. Волконская, Е. Нарышкина,
П. Анненкова, Н. Фонвизина и А. Розен. Трое покинули Сибирь
вдовами, похоронив там мужей, ради которых они и отправились «в
добровольное изгнание»: А. Юшневский умер в 1844 г., А. Ентальцев -
в 1845 г., В. Давыдов - в 1855 г.
Большинство мемуаров декабристок давно опубликованы, их жизни в
Сибири посвящены многочисленные исследования. Подробно изучены
условия жизни и быта, формы помощи, которую они оказывали мужьям и
их соратникам. В ряде специальных трудов подчеркивается
общественное значение их поступка. Считается, что впервые женщины
оказались сознательно вовлечены в общественно-политическую жизнь
страны, что способствовало формированию нового типа русской
женщины. Именно декабристки протестом против общепринятых норм
поведения сделали первый шаг на пути формирования женского
самосознания и эмансипации, возможно, даже не подозревая об этом. В
последующую эпоху, уже более активно и требовательно, женщины
начали заявлять о своих правах на равное с мужчинами обучение,
труд, участие в общественной борьбе (видимо, не случайно одной из
основоположниц русского женского движения стала внучка декабриста
Ивашева). Таким образом, делается вполне однозначный и, кажется,
бесспорный вывод о том, что приезд декабристок к сосланным мужьям
является примером супружеской верности и личным подвигом. «Нет
такой жертвы, - писала кн. М.Н. Волконская родным из Нерчинска, -
которой я не принесла бы, чтобы разделять участь моего мужа».
Считается, что в основе этого нравственного выбора лежит
ответственность за исполнение данного при венчании обета, верность
супружеству.
Но нравственный выбор в каждом конкретном случае предполагает
решение главного жизненного вопроса: между праведным (полезным для
нравственного здоровья) и неправедным (вредным) поступком, между
«добром» и «злом». В основе этого выбора лежат аксиологические
(ценностные) мировоззренческие факторы. Господствующая, а подчас и
однозначная оценка «событий 14 декабря», как «восстания» или иного
протестного действия с положительными («прогрессивными») целями
приводит к тому, что его участники становятся «передовыми
дворянскими революционерами», а не государственными преступниками,
посягнувшими не только на действующие в государстве правовые нормы,
но и на жизнь других людей. В этой системе ценностей действия
государственной власти по их наказанию рассматриваются как
несправедливые и жестокие. Поэтому царский указ, приравнивающий
положение отъезжавших в Сибирь женщин к положению жен
государственных преступников и запрещение брать с собой детей,
рожденных до вынесения приговора их отцам, рассматривается как
«бесчеловечный». Взгляд на проблему с иной стороны позволяет
увидеть за этим указом стремление власти не перекладывать на плечи
детей ответственность за судьбу их родителей, сохранив за ними все
права и достоинства сословия, в котором они родились.
В этом аспекте выбор жен декабристов, уехавших к мужьям в Сибирь,
не был единственным и вряд ли его можно считать бесспорным: в
Европейской России остались дети, для которых потеря родителей,
сознательно их покинувших, явилась подлинной личной трагедией.
Таким образом, по существу, избирая супружество, они предавали
забвению материнство. «Да ежели выбор решить я должна/Меж мужем и
сыном – не боле/ Иду я туда, где я больше нужна/Иду я к тому, кто в
неволе!» - писал Н.А. Некрасов о выборе М. Волконской. Но кому
действительно она была нужнее: взрослому, со сложившимися взглядами
мужу, находящемуся в кругу единомышленников, хотя и в неволе или
крохе-ребенку? Человеку, добровольно вышедшему на Сенатскую площадь
и тем самым сделавшему сознательный выбор не в пользу семейных
ценностей или существу безвинному, «несчастной жертве любви
необдуманной»? Решение этого вопроса и есть нравственный выбор, а
его сознательность предполагает ответственность.
До отъезда в Сибирь детей не было только у Е.И. Трубецкой, Е.П.
Нарышкиной и К.П. Ивашовой.
Образ Полины Анненковой, очаровательной француженки, отраженный в
фильме «Звезда пленительного счастья», опере Ю.А. Шапорина
«Декабристы» и романе А. Дюма «Учитель фехтования», покоряет
обаянием и свободолюбием, решимостью бороться за любовь и идти за
ней до конца. Когда И.А. Анненкова отправляли в Сибирь, он успел
передать невесте записку: «Встретиться или умереть», и, преодолевая
всяческие запреты, Полина отправилась за возлюбленным: «Я всецело
жертвую собой человеку, без которого я не могу долее жить. Это
самое пламенное мое желание», - пишет она в послании на имя
императора. Но в Европейской России со свекровью остается их
внебрачная дочь, увидевшая родителей спустя лишь четверть века. Из
17 детей, родившихся в Сибири, только пятеро остались в живых
(Ольга, Владимир, Иван, Николай, Наталья).
Вообще, как писал декабрист И. Якушкин, «образ жизни наших дам
очень отозвался и на детях; находясь почти ежедневно в волнении, во
время беременности подвергаясь часто неблагоприятным случайностям,
многие роды были несчастливы, и из 25 родившихся в Чите и
Петровском заводе было 7 выкидышей, зато из 18 живорожденных умерли
только 4, остальные все выросли».
Княгиня М.Н. Волконская - дочь героя Отечественной войны генерала
Н.Н. Раевского и Софии Алексеевны, урожденной Константиновой,
внучки Ломоносова – в 18 лет стала женой прославленного генерала
С.Г. Волконского, по возрасту годившегося ей в отцы. Князя до
свадьбы она совершенно не знала, а, проведя с ним лишь три месяца
до ареста, не успела полюбить, часто признаваясь сестрам, что «муж
бывает ей несносен». Однако она поехала за ним в Сибирь одной из
первых, едва оправившись после трудных родов. Ни заботы о маленьком
Николеньке, ни просьбы и уговоры родных не могли остановить ее
решимости. Генерал Раевский, не дождался возвращения дочери, а мать
до самой смерти не смогла примириться с ее поступком. В 1828 г.
Волконская получила известие о смерти первенца-сына, в 1829 г.
умирает, едва прожив несколько часов, дочь. Из троих детей,
родившихся в Сибири, остались в живых двое (Михаил и Елена).
До отъезда в Сибирь Давыдовы имели 6 детей, четверо из которых были
рождены внебрачно (до венчания) их родителей 3 мая 1825 г. Перед
поездкой к мужу Александра Ивановна всех детей передала на
воспитание разным родственникам: двоюродным сестрам мужа, отправив
в Одессу сына Михаила и в Москву дочь Марию. Остальные поехали к
брату мужа в Каменку (Киевская губерния). В 1832 г. дочери
Екатерина и Елизавета были взяты на воспитание гр. С.Г.
Чернышевой-Кругликовой (старшей сестрой А.Г. Муравьевой). В Сибири
у супругов Давыдовых родилось еще 7 детей – Василий, Александра,
Иван, Лев, Софья, Вера, Алексей. По императорскому указу от 18
февраля 1842 г., несмотря на первоначальное решение определять
детей, рожденных в Сибири, в казенные крестьяне, было разрешено их
обучение в государственных учебных заведениях. Сыновья Давыдовых
Василий, Иван и Лев были определены в Московский кадетский корпус.
В 1852 г. дочери Екатерина и Елизавета приехали к родителям в
Красноярск, раньше, в 1850, туда приехал сын Петр. Обладая
удивительным педагогическим даром, родители сумели сделать своих
российских и сибирских детей близкими и родными людьми.
Для А.В. Ентальцевой (Лисовской) брак с сосланным в Сибирь А.В.
Ентальцевым был вторым: уйдя к нему, она оставила на попечение
первого мужа - карточного игрока - единственную маленькую дочь.
«Она была предана душой и сердцем своему угрюмому мужу» – писала о
ней М.Н. Волконская. В 1828 г. Ентальцевых перевели из Читинского
острога на поселение в Березов, в 1830 г. - в Ялуторовск
(Тобольская губ.). Но психическое здоровье А.В. Ентальцева
окончательно расстроилось, он умер в 1845 г. Его вдове не было
позволено вернуться в Европейскую Россию. До манифеста об амнистии
декабристов она жила в Сибири на пособие из государственного
казначейства, которое по возвращению в Москву было сохранено за ней
пожизненно. Своих детей у Ентальцевых не было, но после смерти мужа
вдова помогала И.Д. Якушкину в работе созданных им школ для
мальчиков и девочек.
А.Г. Муравьева - утонченная красавица, «хрупкий ангел» - первой из
жен декабристов приехала в Читу. На каторгу был отправлен также ее
родной брат Захар. Перед отъездом она написала царю письмо, в
котором просила о снисхождении к брату, т.к. он - единственная
опора для больного отца, умирающей матери и малолетних сестер. Сама
же, оставив на их попечение сына Михаила и двух дочек (Екатерину и
Елизавету), старшей из которых не было трех лет, уехала вслед за
мужем. Чтобы как-то утолить тоску по оставленным детям, Александра
Григорьевна заказала их портреты, получив которые, «в первый день
не могла оторвать от них глаз». В 1829 г. родилась дочь Софья. Но
«с родины» приходили горькие вести: скончалась мать, отец впал в
меланхолию, оставленные дочки умерли (одна совсем юной, другая,
сойдя с ума). И все же на шутливый вопрос декабриста И.Д. Якушкина:
«Кого же вы любите больше: Бога или Никитушку?» (мужа), она
ответила с улыбкой: «Господь не обидится, что Никитушку люблю
более». А.Г. Муравьева умерла в 1832 г., оставив на попечение мужа
3-летнюю дочь.
Малолетний сын А.В. Розен - дочери первого директора
Царскосельского лицея В.Ф. Малиновского и С.А. Самборской (дочери
известного протоиерея А.А. Самборского) - Евгений был оставлен у
тетки М.В. Малиновской (с 1834 жены декабриста В.Д. Вольховского).
В Сибири у Розенов родились сыновья Кондратий (назван в честь
Рылеева), Василий, Владимир, Андрей и дочери Анна и Софья (умерла в
младенчестве). Сыновья были определены в Грузинский дворянский
батальон Военных кантонистов под фамилией Розеновых.
Н.Д. Фонвизина - единственная дочь престарелых родителей
(Апухтиных), отправляясь в Сибирь, оставила на их попечение двух
внуков Митю и Мишу 2-х и 4-х лет. Они не имели привязанности к
родителям, переписку с ними воспринимали как тяжелую повинность.
Примкнув к кружку Петрашевского, были осуждены, но умерли, не
встретившись с родителями. В Сибири у Фонвизиной родилось два
мертвых ребенка, еще два сына (Богдан и Иван) умерли младенцами.
После смерти супруга она вышла замуж за декабриста И.И. Пущина.
Мария Казимировна (урожденная Круликовская), будучи замужем за
Анастасовым, встретила А.П. Юшневского. Разведясь, она в 1812 г.
стала его супругой, а после вынесения приговора, следуя к мужу в
Сибирь, оставила в Европейской России дочь от первого брака Софью.
Детей у Юшневских не было, они брали в дом воспитанников.
Нравственная мотивация приезда декабристок в Сибирь различна:
любовь к мужу, супружеский долг, ореол мученичества или свобода от
любой ответственности, от семейных уз, предрассудков и пр.
Несомненно, на выбор между «мужем и детьми» оказало влияние
романтическое воспитание, героический идеал служения, традиционная
оторванность дворянок от непосредственного ухода и воспитания
детей. Но в любом случае дети оставались сиротами при живых
родителях: насильно забрали отцов, добровольно уезжали матери.
Была ли у жен декабристов альтернатива? Да, некоторые из них
остались, воспользовавшись царским указом, освобождавшим от брачных
уз. Так, сестры Бороздины (двоюродные М. Волконской) Екатерина и
Мария были замужем за В.Н. Лихаревым и И.В. Поджио. Они вторично
вышли замуж. Осталась в Европейской России жена Артамона Муравьева
Вера Алексеевна с сыновьями Львом (умер в 1831 г.), Никитой (умер в
1832 г.) и Александром, а также жена П.И. Фаленберга, вышедшая
замуж повторно. И.Д. Якушкин запретил жене Анастасии Васильевне
покидать детей и ехать с ним в Сибирь, полагая, что только мать,
при всей ее молодости, может дать детям должное воспитание.
Вышедшая замуж по страстной любви в 16 лет, она писала мужу в
Сибирь: «…ты можешь быть счастлив без меня, зная, что я нахожусь с
нашими детьми, а я, даже находясь с ними, не могу быть счастлива…».
Супруги больше не встретились, но их сыновья Вячеслав и Евгений
получили хорошее воспитание и образование. Их мать умерла на 11 лет
раньше отца. Узнав о смерти жены, И.Д. Якушкин в память о ней
открыл первую в Сибири школу для девочек.
Ф.М. Достоевский писал, что декабристки «всем пожертвовали для
высочайшего нравственного долга», и, невиновные, «перенесли все,
что перенесли их осужденные мужья». В чем же подвиг декабристок?
Кто же были героини: те, кто уехал к государственным преступникам
или «первенцам свободы», оставив детей в России, или те, кто
остался, помогая мужьям материально, морально и воспитывая детей?
Нет ли связи между безответственностью декабристов по отношению к
семье и безответственностью их жен по отношению к детям? Ответ
зависит от аксиологических (ценностных) мировоззренческих
приоритетов. Это и есть нравственный выбор как ответственность.
©
"Жены декабристов: ответственность нравственного выбора" (Розина О.В., кандидат исторических наук, доцент)
Сколько себя помню в юности, выражение «жена декабриста» вызывало у меня какую-то странную дрожь во всем теле. Это из-за книг, которые мы читали по школьной программе, и из-за уроков литературы, на которых нам преподносили этих женщин, как истовых мучениц, пожелавших разделить со своими мужьями наказание ссылкой.
Я даже представляла себе, как она должна выглядеть: женщина с печальным, но непоколебимым лицом, пронзительным взглядом и уверенной поступью, бродящая в полушубке по снежным просторам России, а рядом с ней в кандалах шел ее благоверный муж.
Оказалось, я была недалеко от истины — 11 женщин, которые разделили сибирское изгнание мужей-декабристов, покорно приняли на себя не только бедноту и серость, но и лишнее их всяческих привилегий, прав и статуса: Волконская Мария Николаевна, Анненкова Прасковья Егоровна, Ивашёва Камилла Петровна, Муравьева Александра Григорьевна, Нарышкина Елизавете Петровна, Розен Анна Васильевна, Трубецкая Екатерина Ивановна, Фонвизина Наталья Дмитриевна, Шаховская Наталья Дмитриевна, Юшневская Мария Казимировна, Якушкина Анастасия Васильевна.
Устойчивое выражение «жена декабриста» связано с известным в русской истории восстанием, произошедшим 14 декабря 1825 года — подавленным в результате с жестким наказанием бунтовщиков, отправившихся отбывать наказание в Сибирь.
Всего жен декабристов было одиннадцать, и не все из них были знатными, но вне зависимости от статуса они решили отказаться от светской жизни и отправиться вслед за своими мужьями в неизвестность. Конечно, их никто не неволил, как может показаться — у жен декабристов был четкий выбор: либо развестись с «государственным преступником», либо воссоединиться с ним, но отречься от роскоши и отправиться вслед за мужем на каторгу.
За непокорность и верность этих женщин поставили в условия даже страшнее, чем те,  в которых пребывали их мужья — это в том смысле, что многие из них оставили уже рожденных детей родителям, перешли на положение жены ссыльнокаторжного, лишились права переписки, а их дети, рожденные уже в Сибири, считались казенными крестьянами. И это — на всю оставшуюся жизнь, потому что даже после смерти своих мужей жены не получали права на возвращение.
в которых пребывали их мужья — это в том смысле, что многие из них оставили уже рожденных детей родителям, перешли на положение жены ссыльнокаторжного, лишились права переписки, а их дети, рожденные уже в Сибири, считались казенными крестьянами. И это — на всю оставшуюся жизнь, потому что даже после смерти своих мужей жены не получали права на возвращение.
И казалась бы эта история и эти женщины святыми мученицами, если бы не одно «но»: именно оно не дает мне теперь покоя, когда я выросла, стала старше и сама отчасти примерила на себя судьбу жены декабриста.
Безрассудная или мудрая?
Мы привыкли считать, что жена декабриста — это «верная жена, которая разделила со своим мужем горе и несчастье и не бросила его в трудный час». Однако, давайте-ка разберемся в этом на примере одной из этих жен - Марии Волконской. Как мы помним, она вышла за своего благоверного будучи моложе его в два раза. Мужа своего Мария практически не знала и, может быть, не имела представления о том, что он участвует в заговоре.
Когда Волконского ссылают в Сибирь, Мария просто молит царя разрешить ей отправиться за ним — и это учитывая, что не так давно родила от него ребенка. Ведь, согласно царскому указу, брать с собой детей не разрешали — они ведь не могли самостоятельно выбрать свою судьбу, да и мучиться им в суровых условиях не было нужды.
Как можно назвать такой поступок? Если разбирать его в контексте вселенской любви к своему мужу и желанию быть с ним — как героизм и подвиг. А если не в нем?
 Смотрите сами: если в нынешнем мире женщина откажется от своего ребенка и уедет с супругом в другой город или страну, ее назовут кукушкой, оставившей родное дитя хоть и с родными бабушкой и дедушкой, но все-же оставить. А с женами декабристов это правило не работает? Почему мы воспринимаем поступок большинства из 11 тех женщин, как подвиг, а не безрассудство или равнодушие?
Смотрите сами: если в нынешнем мире женщина откажется от своего ребенка и уедет с супругом в другой город или страну, ее назовут кукушкой, оставившей родное дитя хоть и с родными бабушкой и дедушкой, но все-же оставить. А с женами декабристов это правило не работает? Почему мы воспринимаем поступок большинства из 11 тех женщин, как подвиг, а не безрассудство или равнодушие?
Как по мне, так их решение оставить детей и поехать с мужем в Сибирь было не просто жестоким, а глупейшим! Марию ведь тоже в свое время просил отец, чтобы она оставила мысли о переезде — мол, не на курорт едешь, на что себя обрекаешь и детей своих? И ведь любви особой не было у нее — я сомневаюсь, что девушка понимала и принимала все поступки своего мужа.
За что уважать такую женщину? За то, что она «повелась» на идеи и модную тенденцию кидаться из огня да в полымя? Чтобы потом о ней писали и воспевали твой сильный дух в стихах и строках? Сомнительная польза... Или же нужно уважать Марию за недостаток любви к собственному сыну? Первому, ибо в ссылке она родила на свет еще четверых детей, из которых выжили только двое. И это неудивительно — в условиях Крайнего Севера, без благ, нормальной медицины, права голоса и возможности вернуться назад. О, да, эта жена декабриста точно думала только о благе семьи...
Я смотрела — многие из одиннадцати жен умерли от тяжелых болезней, в нищете и холоде: Волконская - в 1863 году от сердечной болезни, Екатерина Трубецкая - от рака, Наталья Фонвизина была парализована. Этой ли судьбы они искали? И самое главное, посчитали ли их мужья поступок жен подвигом или тем самым безрассудством? Да и то, что они, уехав в ссылку, перестали «считаться» видными женихами (кто бы на них еще посмотрел потом, кроме родных жен), не могущими рассчитывать на любовь и верность какой-то иной женщин — это нужно учитывать или нет?
В этом смысле благородно поступил Ивана Якушкин: его супруга родила до ареста мужа одного сына, а во время следствия второго. Приговоренный к 20 годам каторги и вечному поселению он настоял, чтобы Анастасия осталась в Европе и воспитывала детей. Лишь в 1831 году Иван Якушкин дал согласие на приезд жены, но государь отказал ей в прошении — оба раза, посчитав, что прошение подано слишком поздно.
Современная декабристка — быть может?
Вы можете со мной не согласиться в некоторых понятиях — я сама бы сделала это  десять лет назад, когда считала, что только любовь может спасти мир — любовь к мужчине, и что быть женой декабриста — это жутко круто. А сейчас я думаю, что эти женщины изменили бы свое решение пару лет спустя, окунувшись в бедноту и крах, разлученные с детьми и обрекшие рожденных в ссылке на трудности. Но вернуть ничего было нельзя...
десять лет назад, когда считала, что только любовь может спасти мир — любовь к мужчине, и что быть женой декабриста — это жутко круто. А сейчас я думаю, что эти женщины изменили бы свое решение пару лет спустя, окунувшись в бедноту и крах, разлученные с детьми и обрекшие рожденных в ссылке на трудности. Но вернуть ничего было нельзя...
И еще я думаю, что женщина, становясь женой, может поехать за своим мужем на край света, но, становясь матерью, она лишается права безрассудства и этой вселенской любви к мужику. Каким бы он ни был.
Жены декабристов... Какое многогранное это понятие, совмещаемое и безумство, и подвиг, и вечную любовь, и глупость женщин. Ведь многие из них разделяя с мужем тяготы жизни, не разделяли их убеждений. Конечно, у женщин того времени могло их и не быть — этих самых убеждений, а для того, чтобы войти в историю, достаточно было одного выдающегося человека.
Ведь и сегодня мы не знаем всех женщин и жен выдающихся личностей, которые остаются за кадром и иначе воспринимаем поступок тех, кто без оглядки поехал за своими мужьями в Сибирь. Женщины ли нынче не те или, наоборот, они стали умнее, сильнее, мудрее и, превратившись не только в жен, но и личностей, стали думать головой, а не только сердцем? И можно ли рассуждать о тяготах и решениях жен декабристов, не находясь в их положении хоть частично?
Как часто в нынешней жизни мы слышим это хлесткое: «Ты что, жена декабриста, чтобы в такую даль за мужем ехать?». И хотя образ жены декабриста остается в голове образом сильной и преданной женщины, которая разделяет участь своего мужа и идет за ними в нечеловеческую жизнь, на аналогичный поступок решатся сегодня не все.
Не будем перегибать и говорить о том, что быть верной и преданной — такой, как жены декабристов, можно только в суровой глуши или в холоде. Достаточно представить распространенную ситуацию, когда муж по какой-то глупости или по стечению обстоятельств оказывается в финансовой яме, не имея возможности кормить семью, а его жена не убегает от него в сытую жизнь, а остается рядом с милым, поддерживая его и ожидая лучших времен. Это тоже своеобразная каторга, при которой женщина отказывается от благ и возможности жить лучше ради своей любви.
 Я могу сказать, что хорошо знаю эту ситуацию. Когда мы начали встречаться с мужем (тогда еще будущим), он был простым барменом, а я работала на телевидении. Спустя месяц отношений, мы стали жить вместе на съемной квартире. Оплачивали ее с его зарплаты, кушали на мою.
Я могу сказать, что хорошо знаю эту ситуацию. Когда мы начали встречаться с мужем (тогда еще будущим), он был простым барменом, а я работала на телевидении. Спустя месяц отношений, мы стали жить вместе на съемной квартире. Оплачивали ее с его зарплаты, кушали на мою.
Довольно скоро денег хватать не стало, потому что мужу все время ее задерживали, а кушать и платить за жилье нужно было вовремя. Это было первое испытание, которое мы с успехом прошли — и проходим его до сих пор. Как вы знаете, сейчас работой у моего супруга не очень и мы живем на то, что зарабатываю (ттт) я.
Конечно, сегодня мы поселились в доме родителей и многие подумают сейчас, что при таком положении вещей мы катаемся, как сыр в масле: на всем готовом, не думая ни о продуктах, ни о коммунальных платежах. Но это не так: работающих людей в семье прибавилось, но и расходы увеличились. Обычно получается так, что в конце месяца я тяну лямку за всех пятерых — у деда пенсии еще не было, а маминой зарплаты уже нет, истратили. То есть в финансовом плане я очень хорошо понимаю жен декабриста — у них вечно не было достатка, и у меня в то время тоже.
Конечно за одно это назвать меня женой декабриста точно нельзя. Тогда вспомним иное: второе испытание, которое я проходила с мужем на протяжении трех лет, если не больше. В тот период у супруга были сильные проблемы с алкоголем и, как следствие, с глобальным количеством товарищей и друзей и их вечными похождениями по клубам и кабакам после работы.
Мужа я практически не видела, а если и видела, то не всегда трезвым. Вспоминать этот период мне не хочется, а потому описывать в деталях его я не стану. Достаточно того, что я ждала его ночами и утрами, вызволяла из самых разных ситуаций (в том числе и из драк и прочего). Это к той схожести о «яркости» жизни декабристов, следовавших за своими убеждениями, идеалами, ввязывающихся в различные разборки и восстания. Не разделяя убеждений мужа, я все-таки следовала за своей любовью.
Наконец, сама ссылка — испытание третье: без нее разве можно считать жену декабриста таковой? Безусловно, она тоже была — и это была наша поездка в Ташкент почти на год. Это вообще «проблема» нашей маленькой семьи — мы до сих пор не привязаны к одному месту, а вынуждены скитаться по двум странам, как перекати-поле.
Но тот «почти год» был самым сложным на данный период. Потому что в Ташкенте помимо приятного и теплого климата меня не ждало ничего, кроме разочарования, ссор, выяснения отношений и дележки территории. Конечно, ехала я туда за мужем, который ехал за работой, но на совершенно другие «хлеба»: нас очень сильно звала свекровь да и ее старший сын готов был и в огонь и в воду ради своего племянника.
Но время показало иное: мне пришлось, как жене декабриста, отказаться от большинства привычных мне благ — возьмем то же человеческое общение с друзьями, возможность провести хотя бы один день в неделю с близкими людьми, прогулки по магазинам и посещение парикмахерской. Можно много перечислять, но даже купить трусики там для меня было проблемой: свекровь в период бурной своей активности говорила мне, что я не женщина уже, я — мама, и должна думать только о «трусах ребенка», а не о своих. Их вообще у меня может быть всего двое...
Но разве кто-то говорил, что женщина должна перестать быть собой, когда родит? От замухрышки в бигуди и растянутых трениках сбежит любой мужик, даже декабрист, которому и выбирать не из чего. А я иногда не могла даже челку себе в парикмахерской подстричь — так сильно не хватало денег и свободного времени.
Кроме того, меня «лишили» статуса дворянки — назовем это так. Потому что и  свекровь, и ее сын спустя пару месяцев, начали испытывать дискомфорт от того, что мы проживали в их квартире. Не говорили вслух, но испытывали — нельзя было уже делать многих вещей, учитывая наличие маленького ребенка в доме.
свекровь, и ее сын спустя пару месяцев, начали испытывать дискомфорт от того, что мы проживали в их квартире. Не говорили вслух, но испытывали — нельзя было уже делать многих вещей, учитывая наличие маленького ребенка в доме.
А как лучше всего было укрепить веру в то, что ты до сих пор в своем доме хозяин? Правильно, указывать на «законное место» тем, кто туда заселился позже — то есть нам. Ругать, учить, воспитывать, закатывать скандалы, истерики, нагружать работой и все время твердить, что мы тут — положенцы.
Постскриптум
В общем, моя каторга была не вечной, но она все же была. Я помню ее хорошо, учитывая некоторые нынешние обстоятельства - нам снова предстоит отъезд в Ташкент на некоторое время, а я опять еду за мужем вместе с ребенком. Конечно, теперь я закалена в боях и могу дать отпор тем, кто пойдет на меня с кочергой, но как же я не хочу этого делать...
Быть женой декабриста — непросто, в каком времени бы ты ни жил. Делать из этого подвиг, конечно, не стоит, потому что мы сами выбираем себе и человека, и принимаем решения — никто ведь не заставляет нас ехать на ту самую «каторгу»? Но все-таки обычные жены отличаются от тех, кто едет за своими мужьями в Сибирь, меняет место жительства, работу, жертвует статусом и уютом, испытывает финансовые трудности, но свято верит в то, что все будет хорошо — так или иначе.
Безусловно, я не считаю себя женой декабриста в прямом смысле - и обстоятельства. слава Богу, не те, и времена тоже, и примерять на себя чужую шкуру тоже не правильно. Но в переносном, образном смысле быть женой декабриста может любая женщина и в любой момент жизни. Терпеть, любить, идти на жертвы, довольствоваться малым и верить в счастливое будущее.
Самое главное, чтобы ваш «декабрь» не длился долго, а за ним скорее следовало и лето, и счастье, и любовь, и вечные блага для вашей семьи.
А вы когда-нибудь считали себя "женой декабриста"? И что вкладываете в это понятие? Считаете ли его (на примере 11 жен) безрассудством или в нем есть какая-то доля благородства и верности? Наконец, кто это - жена декабриста? Преданая женщина, которая не подумав, последует за любовью, или глупышка, которая просто забывает о самой себе?
Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье.
Не пропадёт ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье!
Пушкин написал эти строки своему лицейскому другу, Ивану Пущину, как своего рода послание всем декабристам. Этот факт известен многим, но мало кто знает, что бумажку со стихами передала адресату через тюремную решётку Александра Муравьёва, одна из тех святых женщин, кого принято называть «жёнами декабристов». Кто же они такие - жёны декабристов, интересные фактыо них мы узнаем из этой небольшой статьи.
Как всё начиналось
Выражение «жена декабриста» давно стало именем нарицательным. Так говорят о женщине, которая ради мужа готова идти (и идёт) на огромные жертвы, бытовые неудобства, кардинально меняет свою устоявшуюся жизнь. Люди, используя это выражение, мало знают о настоящих жёнах декабристов и том человеческом подвиге, который они совершили.
Известно, что декабристы вышли на Сенатскую площадь в декабре 1825 года. Их целью было свержение существующего монархического строя. Восстание потерпело сокрушительное поражение, после чего некоторые из зачинщиков были казнены, а большинство отправлены на каторжные работы в сибирских рудниках.

Важно отметить, что большая часть декабристов принадлежала к высшему российскому обществу. Это были, как правило, молодые офицеры, дворяне, отпрыски богатейших семей империи. Под стать им были и жёны: графини, княгини, аристократки «высокой пробы». Когда их мужей осудили на каторгу, Император издал указ, разрешающий жёнам получить лёгкий развод со своими мужьями, государственным преступниками. Но большинство из них отказались это сделать. Более того, некоторые пожелали поехать за своими мужьями в ссылку!
Начало гражданского подвига
Чтобы понять всё величие их поступка, нужно знать хотя бы некоторые важные подробности. Например, царь издал специальный указ, касающийся жён и близких родственников ссыльных декабристов. Он, в частности, предусматривал, что последовавшие за ссыльными будут:
- Лишены всех прежних социальных прав и привилегий.
- У них забирали все имущественные и наследственные права.
- Им выдавались только мизерные средства на жизнь, да и за них женщин обязали отчитываться перед начальством рудников.
- Свидания с мужьями им разрешали только в присутствии тюремного офицера и только дважды в неделю.
- Дети, рождённые жёнами декабристов, должны были считаться обычными казёнными крестьянами.
Это не полный перечень ограничений, но уже этих пунктов достаточно, чтобы оценить всю глубину их человеческого подвига.
Не все жёны декабристов последовали за своими мужьями, да это и понятно. Некоторые не смогли выдержать осуждения ближайших родственников, отвернувшихся от «смутьянов», другие не захотели ломать жизнь своим детям. Те, кто уезжали, уже имея детей, оставляли их на попечение своих близких, понимая, что вряд ли увидятся с ними в этой жизни. Считается, что всего жён декабристов было 11 человек, хотя, вероятнее всего, таких отважных женщин оказалось больше.
Примеры из жизни декабристских жён
Первой из них уехала в Сибирь Екатерина Трубецкая. Нужно подчеркнуть, что в те времена поездка туда была равносильна отправке на край света, в ужасную глушь, беспросветность бытия. Письма из ссылки в Петербург шли по 2 месяца в одну сторону! Добравшись через три месяца до Иркутска, графиня Трубецкая поехала дальше, к месту ссылки мужа, по этапу, вместе с уголовниками.
Трубецкая смогла увидеть мужа только через полгода после своего отъезда из столицы. Увидев его в кандалах, среди других каторжан, она потеряла сознание.
Вместе с ней была и Мария (Марина) Волконская, самая молодая из всех жён-декабристок. Дочь героя Отечественной войны, генерала Раевского, внучка Ломоносова, стала посреди Благодатского рудника на колени, поцеловала кандалы мужа, а потом и его самого…
Волконская и Трубецкая долго были вместе: питались зачастую чёрным хлебом и квасом, помогали мужьям, как только могли. Трубецкая пошила из своих тёплых башмаков шапочку, защищавшую голову мужа от падения кусков руды. Сама впоследствии отморозила ноги.
Через некоторое время их мужей перевели в Читу. Здесь же оказались некоторые другие жёны. Власти позволили им послабление в том смысле, что велели построить небольшие деревянные дома для женщин. Улицу, где они располагались, ещё долгое время называли Дамской.
В тюрьме Читы декабристам было, мягко говоря, несладко. Но всё же, здесь, в отличие от рудника, можно было выжить. В маленьком сибирском городке жёны декабристов жили дружной семьёй. Им приходилось много писать, ведь самим декабристам переписка была запрещена, и женщины отправляли письма, написанные под диктовку, родным, друзьям, знакомым.
Они учили грамоте крестьянских детей, а сами перенимали у крестьянок премудрости быта. Ведь многие из дам никогда даже не готовили, за них в прошлой жизни это делала прислуга. Также декабристки занимались шитьём, вязанием. Впоследствии, когда власти послабили условия содержания, некоторые из женщин воспитывали родившихся в ссылке детей.
Не все из этих героических женщин уехали в Сибирь за мужьями. Например, Полина Гебль венчалась уже здесь, последовав за женихом, и стала Анненковой. Тюремное начальство позволило жениху снять в церкви кандалы, а после церемонии охранники отвели его в камеру.
Настоящим авторитетом среди дам слыла жена Никиты Муравьёва, Александра. Она умерла первой среди декабристок в возрасте 28 лет. Случилось это уже на Петровском заводе, куда ссыльных отправили после Читинской тюрьмы. В день её смерти Никита полностью поседел.
Жёны декабристов демонстрируют нам интересные факты, свидетельствующие о невероятной силе человеческого духа! Уже два века они являются примером преданности, верности, умения отдавать себя в жертву во имя любви. Из 11 женщин только 8 дожили до царской амнистии 1856 года, только у пяти из них к тому времени рядом ещё были живые мужья. В городе Тобольске этим удивительным, святым женщинам установлен памятник.
14 декабря 1825 года на Сенатской площади Санкт-Петербурга происходит первое в истории России восстание, организованное дворянами-революционерами. Они выступают против самодержавия царя.
Несмотря на то, что оно было сразу же подавлено, наказание за подобную выходку было более чем жёстким: пять организаторов - повешены, а остальные одиннадцать человек - сосланы в Сибирь на каторгу. В сущности, это означало гражданскую смерть.
По мнению царя, бунтовщики должны были непросто затеряться в снежных просторах страны, но и исчезнуть там навсегда, лишившись общения с родными и близкими. Однако этот план не удался: отправившиеся вслед за своими мужьями, женщины его буквально «разрушили».
Их было одиннадцать, столько же, сколько и оставшихся в живых революционеров. Большая часть были княгинями, но среди них были и незнатные особы. Александра Ентальцева, Александра Давыдова, Полина Гебль, Мария Волконская, Екатерина Трубецкая, Александра Муравьева, Елизавета Нарышкина, Анна Розен, Камилла Ивашева, Наталья Фонвизина и Мария Юшневская.
Тернистый путь к супругу
Княгиня Екатерина Ивановна Трубецкая, урождённая графиня ЛавальСегодня сложно сказать, чем руководствовались представительницы слабого пола, решившиеся на этот поступок. Властям это решение не нравилось, и они всеми возможными способами старались сдерживаться эти отчаянные порывы воссоединиться с супругами.
Первой, кто добилась разрешения, стала княгиня Трубецкая. И это несмотря на то, что по личному распоряжению царя ее почти шесть месяцев держали в Иркутске. Причём всё это время женщину пытались отговорить от поездки к своему мужу.
Говорить однозначно о безграничной любви или поддержке политических убеждений супруга нельзя. Ведь среди дворян частыми были браки и по расчёту, и даже без участия молодых. Например, княгиня Мария Волконская до ссылки мужа в Сибирь вообще с ним плохо ладила. Хотя и без романтических чувств здесь не обходилось.
 княгиня Мария Волконская
княгиня Мария Волконская Первое, с чем сталкивались жёны декабристов, - лишение положения в обществе. Царские милости на них уже не распространялись. В Сибири они превращались в жён «каторжан», то есть, как и их супруги, ограничивались в гражданских правах. Полная неизвестность: уважительного отношения женщинам гарантировать никто не мог.
Второе, и, пожалуй, самое сложное именно для матерей, испытание - разлука с детьми. Их категорически запрещалось вывозить. Например, Мария Юшневская вынуждена была ждать разрешения почти четыре года. И это несмотря на то, что её дочь от первого брака на тот момент была уже достаточно взрослой.
 Мария Юшневская
Мария Юшневская Перед отъездом детей приходилось пристраивать к родственникам. Здесь следует отдать должное российской интеллигенции: в сложный для жён декабристов момент они принимали их детей практически безоговорочно. Им давали достойное образование, обеспечивая всем необходимым. Но сердце любой матери всё равно крайне тяжело переносило подобную разлуку.
Александре Давыдовой пришлось оставить шестерых детей. И чтобы поздравлять их с праздниками, ей приходилось почти за полгода отправлять детям письма. О том, как они взрослели, княгиня могла судить только по присланным детским портретам.
«Какие героини? Это поэты из нас героинь сделали…»
 Свадьба декабриста Ивашева в Петровском заводе, 1900 г. Фото: Николай Полянский
Свадьба декабриста Ивашева в Петровском заводе, 1900 г. Фото: Николай Полянский Отправляясь за своим супругом, жёны понимали одно - будет очень тяжело. Но они даже не представляли насколько. Многие, изнеженные домашней прислугой дамы, никогда не готовили еду. Более того, они даже одевались с помощью гувернанток.
Женщинам нужно было ходить за водой, рубить дрова и разводить огонь. Если же говорить о чистке овощей, с которой многие в принципе справлялись, то разделка птицы для большинства была невозможной.
Например, в описи имущества Елизаветы Нарышкиной, можно было найти множество «важных» по её мнению предметов. Этот список еле уместился на трёх листах: 30 пар перчаток, 30 пеньюаров, 10 пар чулок, 2 вуали и так далее. Что интересно, она даже не забыла прихватить с собой медный самовар. Но удалось ли его довести до пункта назначения и умела ли барыня им пользоваться - это вопросы, на которые вряд ли можно ответить однозначно.
 Елизавета Петровна Нарышкина
Елизавета Петровна Нарышкина Возможно, с точки зрения сегодняшних испытаний, эти «сибирские» трудности преодолимы. Многие из жён декабристов не считали себя героиням, как об этом твердил высший свет России. Например, Александра Давыдова, вернувшись из Сибири, как-то однажды сказала:
«Какие героини? Это поэты из нас героинь сделали, а мы просто поехали за нашими мужьями…».
Особенно сложно пришлось первым, кто буквально прорывался в Сибирь: Трубецкой и Волконской. На содержание их мужей государством выделялось 20 рублей в месяц. Причём эти суммы были выделены лично Николаем I. Женщины должны были отчитываться ежемесячно о своих расходах, что деньги не тратились «на чрезмерное облегчение участи заключенных». Для передачи вещей своим мужьям, Трубецкой и Волконской приходилось покупать охрану. Но единственное, что хоть как то разрешалось - это подкармливать своих супругов.
Дамская улица
 Дамская улица, Чита
Дамская улица, Чита Значительно легче становилось после переезда в Петровский острог. Для жён декабристов там были оборудованы небольшие дома. Они составляли целую улицу, получившую впоследствии название Дамской*.
После этого оставалось только налаживать быт. Но и это было сделать очень непросто, поскольку всё нужно было «выписывать» из столицы, заказывая через родственников. Очень часто посылки задерживались на долгие месяцы.
И, конечно, они рожали и воспитывали детей. Жёны декабристов помогали своим мужьям после выхода с каторги заниматься сельским хозяйством, открывать свои собственные дела. Мужчинам приходилось вспоминать приобретённые в «прошлой жизни» специальности.
Сегодня споры о том, кто такие эти женщины и зачем им это было нужно, разгораются яростнее, чем в прошлом. Но однозначно нельзя не восхищаться величием их бескорыстной душевной щедрости.
*Это интересно: По словарю В. Даля, дама – это женщина высших сословий, госпожа, барыня, боярыня. Он же добавляет, что ей может быть придворная дама, сановница, чиновница двора, служащая. По словарю С. Ожегова, дама – это женщина из интеллигентских, обычно обеспеченных городских кругов. Но даже в словаре есть пометка, что это устаревшее определение.
Отсюда и название улицы — Дамская. Это была первая улица, где дома были упорядочены, а не стояли хаотично. Кроме того, как отмечают краеведы, это было не просто местожительство «изысканных светских дам», но и культурный центр будущего города. Понятно, что и до их приезда в Забайкалье проживали женщины, но это были свои бабы и девки, а вот дам – не было. Позже улица с таким же названием появилась и в Петровском Заводе.
Прямая речь
Из письма Екатерины Трубецкой мужу в Петропавловскую крепость:
«Я, право, чувствую, что не смогу жить без тебя. Я все готова снести с тобою, не буду жалеть ни о чем, когда буду с тобой вместе. Меня будущее не страшит. Спокойно прощусь со всеми благами светскими. Одно меня может радовать: тебя видеть, делить твое горе и все минуты жизни своей тебе посвящать. Меня будущее иногда беспокоит на твой счет. Иногда страшусь, чтоб тяжкая твоя участь не показалась тебе свыше сил твоих… Мне же, друг мой, все будет легко переносить с тобою вместе, и чувствую, ежедневно сильнее чувствую, что как бы худо нам ни было, от глубины души буду жребий свой благословлять, если буду я с тобою».
«Друг мой, будь спокойной и молись Богу!.. Друг мой несчастный, я тебя погубил, но не со злым намерением. Не ропщи на меня, ангел мой, ты одна еще привязываешь меня к жизни, но боюсь, что ты должна будешь влачить несчастную жизнь, и, может быть, легче бы тебе было, если б меня вовсе не было. Моя участь в руках государя, но я не имею средств убедить его в искренности. Государь стоит возле меня и велит написать, что я жив и здоров буду. Бог спаси тебя, друга моего. Прости меня».
Друг твой вечный Трубецкой».
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите левый Ctrl+Enter .